Книга “Черновик”
Черновик
Не имея счёта в банке,
Не намыливая в бане.
Он стучит на барабане
В ожидании Годо…
И летает звук над нами.
Не задерживаясь в драме.
Растворяясь в океане
Одиночества его.
Плачет горько саксофон.
Плачет больно и печально.
Потому что он влюблён
В барабана звук прощальный.
А любовница гитара
От такой любви устала,
И стекает страсти зов
На ладонь её ладов.
Барабан луною пьян
И мелодия звучит.
Ловит он с гитарой fun
Засыпая на груди…
Ошалелый бэнд в угаре
От участия в романе.
Он давно уже в ударе —
Соловей на барабане.
Музыкант, играй, играй!
Лабухи, развеете уши.
Это просто Б-жий дар
Льётся, проникая в души.
Ночь заслушалась сама
И Луна разделась голой…
И танцует сатана —
Барабан играет соло…
Вино выпито до дна.
Спит рассвет в оконной раме.
Одинокая струна
Слёзы льёт на барабане…
Не имея счёта в банке.
Не намыливая в бане.
Музыкант на барабане
В ожидании Годо…
И летает звук над нами.
Не задерживаясь в драме.
Растворяясь в океане
Одиночества его.
1999
Проходит всё.
Всё канет в Лету:
Свершенья юности.
Нелепые мечты,
…И песни все
Уже отпеты
У нестареющей Реки,
Где каждому идёт
В зачёт.
Что не
Свершил.
Не испоганил
В деяньях лет
Своих…
И всё.
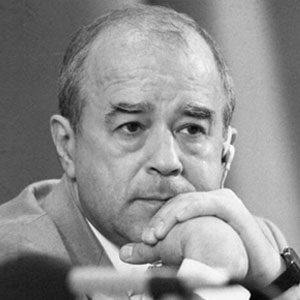
За что люблю я
музыку дождя?
За то,
что музыку дождя
никто не пишет.
Июльский дождь
с московской крыши
звучит…
и это —
музыка сегодня
для меня.
За что люблю я
музыку дождя?
За то,
что музыку дождя
не выразить словами.
И ты одна
в оконной раме,
Москва…
И это —
музыка сегодня
для меня.
За что люблю я
музыку дождя?
За то,
что музыка дождя
всгда над нами
Кольцом Садовым,
Чистыми Прудами
соединяет
два материка…
И это —
музыка сегодня
для меня.
1997
Почти летя,
сверкая и горя,
по лысине моей
прошелестела шина.
Ночь сентября
дремала на вершинах —
ладонях звёзд.
Рябиновая гроздь
сползала в горсть,
где вечность вскользь,
где вечность гость,
а правит суета
и забивает гвоздь
сквозь времена.
Суть — это ночь
и эта тишина.
Обними меня ночь,
тёмно-русой луной
напои,
в голубые глаза
твоих звёзд
не могу наглядеться.
И они,
словно сны,
словно синие сны,
словно чистые сны
детства.
Может быть, я смешон
с объяснением в любви
прогони,
словно сон прогони.
Может быть я смешон:
объяснение в любви —
не хмельное
гуденье сосны,
не удалый
кленовый звон,
не густой
баритон тополей,
а сердца
каменный стон.
У булыжника — стон?
Ну, конечно, смешон.
Ну, и пусть!
И в глазах твоих
горечь и грусть
стынут пусть.
Я — булыжник,
объясне-обвиненьям
в любви не привык,
я — булыжник,
корявый язык.
Из хаоса,
из силы вселенской
возник
в миг любви…
…Полюби,
полюби меня ночь
и возьми, и возьми
моё сердце.
Одинокое сердце
пришельца.
…Я из космоса
выбыл.
Мои сны на Луне,
где живёт моя ночь.
Там остались долги.
Не оплаченный билл.
Не предъявленный иск.
Вот и всё. Уходи.
Уходи моя ночь.
Солнца диск
уже выплыл.
Я — булыжник. Гранит.
Я — частица чего-то.
Моя память хранит
скрип испанской гарроты.
Словно люди,
я — разный.
Чистый,
грязный.
Гонимый.
Хранимый.
Камень,
словом, я — тот же.
Проплываюгцих мимо,
я глазею
с балкона Венеции Дожей,
отражая сонливо
зелень залива.
…Такая работа.
Мне бы лучше
торчать в развороте
Микеланджело Буанаротти.
Видно, жребий не выпал.
…На войне, без войны,
по вине, без вины,
у неба, земли,
у пепла Треблинки,
Лидице, Бабьего Яра,
у тех, кто загнулся
на сталинских нарах,
у всех, кто остался там,
а у Осипа Мандельштама —
был выбор?!..
…Я — булыжник,
осколок космической силы
и работал меня
каторжанин Василий;
я — последний
в ряду комиссарской аллеи
и ладонью
касаюсь лица Мавзолея.
Надо мной
вольный ветер знамёна полощет,
метит Лобное Место,
метёт Красную Площадь.
…Я из хаоса выпал.
Меня каторжник выбил.
Я, булыжник —
мироздания выстрел.
Сочетания звёзд. Разночтение
планет. Биенье сердец.
Всё от Б-га.
Он — Создатель, Творец!
Катит. Катит дорога.
Я — булыжник.
Подорожник склонился ко мне.
Напои меня ночь. Полюби на Земле.
19 6 8 – 19 9 8
…Ноябрь. Позднее предзимье.
Всё ожидает лютость, стужу…
Луна и ворон, и окно
В стынь выворачивают душу.
И прилетают на свиданье
Ушедшие. Их нет давно…
Летят. Летят из мирозданья
взглянуть на сад…
Вокзал — Земля — зал ожиданья.
Темно… Листает ночь воспоминанья
и все свершённые грехи казнят. Казнят!
…казнят предательства, горят в горсти,
прости нас, Г-споди,
Прости.
Прости, кто — Авель и кто — Каин
прости.
Амен.
1989
Улыбку дня
и вечера глаза
у озера души,
застывшие в тиши,
как передать?
Как передать,
что слышу голоса
сегодня из вчера,
ушедшие в века?
Как передать?
Как передать красу
печали
хмельной травы, росы,
стекающей по стали
степной косы…
Как передать
святую простоту,
наивную мечту
сквозь времени реку.
Как передать
любовь
на срезе, на изломе жизни
к родному небу, родине. Отчизне.
1978
Я — кошка
и душа моя бродит в аду… … мау.
Я — эхо
и оно заблудилось в лесу… … ауу…
Я — обвал,
я лечу глотку скал
среди дня……. аааа…
Злой оскал,
кем был, кем не стал,
кем-не-стал, кем-не-стал, кем-не-стал
не тревожит меня
…Камнем стал.
1970
Старайтесь отдавать долги
Всем людям, близким и неблизким.
Проспектам, птицам, обелискам.
Стекают листья — жизни дни…
Старайтесь добрым быть всегда —
Не суетливой мысли ради —
сквозь
— Славы.
— Деньги.
— Вёсны.
— Радость,
когда у мамы был, когда!?
Когда, в последний раз, когда?
С друзьями, недругами вместе
Ты пел воспоминаний песни?
Куда года летят, куда?
Всё отлетело
…в Никогда.
В последний раз,
В последний час…
спешите добрым быть..
Всегда.
1987
Благодарю сиюминутность
За боль тревог, за пыль дорог.
Благодарю сиюминутность
За лета выпитый глоток,
За то, что песенка не спета.
За солнце в майке голубой.
За то, что ты уходишь в небо
И не берёшь меня с собой.
1978